Маркс и гегелевская философия права (о вновь опубликованной работе Маркса) [Редактировать]
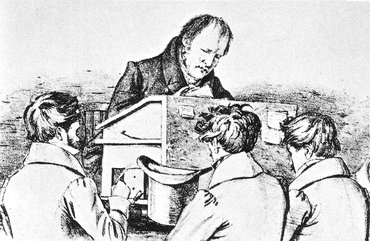
После появления на свет Энгельсовой «Диалектики природы» и рукописи «Немецкой идеологии» казалось, что литературное и идейное наследие великих основоположников марксизма представлено во всей своей исчерпывающей полноте. Однако, Институт Маркса и Энгельса продолжал свою энергичную работу по разысканию и опубликованию всего того, что может представлять интерес для изучения их творчества. И в результате мы имеем ряд новых, впервые увидевших свет, литературных фрагментов молодого Маркса, в том числе капитальную рукопись марксовой «Критики философии права Гегеля»[1].
Как указывает в своем редакторском предисловии Д. Б. Рязанов, названная рукопись относится приблизительно к апрелю-сентябрю 1843 г., т. е. к наиболее раннему этапу периода «линяния» Маркса от идеализма к материализму. Следующим шагом явилась известная статья «К еврейскому вопросу», и наконец, наиболее отчетливо и ярко изменение философской и социально- исторической позиции Маркса — поворот его к материализму и к коммунизму — появились уже в самом конце 1843 — начале 1844 г.г., — в сделанных им конкретных политических выводах, в его пламенном призыве «К критике гегелевской философии права». Но последняя статья — лишь сжатый итог огромной теоретической работы, за короткий промежуток в несколько месяцев проделанной Марксом. От случайных публицистических статей «Рейнской газеты» Маркс должен был перейти к критическому пересмотру всей социальной философии Гегеля. Этот переход совершился под влиянием опубликованных тогда «Предварительных тезисов к реформе философии» Л. Фейербаха. Теоретический анализ гегелевской философии государства и права, изобличение шаг за шагом, параграф за параграфом, «логического, пантеистического мистицизма», который Гегель обнаруживает в своих философско-правовых воззрениях — таково содержание вновь опубликованной рукописи.
К сожалению время не сохранило нам начальных страниц работы Маркса: как сообщает т. Рязанов, Маркс не довел ее до конца, т. к. в дальнейшем эта форма изложения своих воззрений показалась ему затруднительной[2]. Более или менее обстоятельно освещен им лишь гегелевский отдел, относящийся к «внутреннему государственному праву» (начиная с № 261 и кончая № 313 «Grundlinien der Philosophie des Rechts»). Обещание Маркса — данное в разных местах рукописи — посвятить особую часть своей работы рассмотрению гегелевского «гражданского общества» так и осталось невыполненным. И тем не менее, и в настоящем своем «куцом», урезанном виде рукопись Маркса представляет значительный интерес — притом интерес не только специфический, не только для историка марксизма.
Благодаря философской, диалектической трактовке целого ряда вопросов, марксова критика Гегеля приобретает серьезнейшее философское, методологическое значение. Материал же, с которым оперирует этот «преодолевающий» своего учителя, гениальный мастер диалектики, позволяет ему бросить попутно свет и на некоторые проблемы историко-социологического и теоретико-правового характера.
I
Государственно-правовая философия Гегеля, как известно, представляет собою лишь особое звено его общефилософской системы, содержанием и формой коей является диалектический идеализм.
Философ рассматривает каждую науку, как «развитие мысли и понятия». Но в противоположность тем, кто в идее видит лишь содержание нашего сознания, лишь «представление в мнении», философия Гегеля развивает взгляд, согласно которому «нет ничего действительного, кроме идеи». Она приходит, поэтому, к необходимости «познать имманентную субстанцию и вечное, имеющее место в видимости временного и переходящего». «Разумное», синоним коего «идея», выступая в своей действительности, как внешнее существование, выступает в бесконечном множестве форм, проявлений и образов. Наше познание должно проникнуть сквозь них, чтобы отыскать их «внутренний пульс». Форма познания — это наш «разум, как понимающее незнание», содержанием же познания служит «разум, как субстанциальная сущность нравственной действительности»: «осознанное тождество обоих и есть философская идея». Так, напр., «философская наука о праве имеет предметом идею права, понятие права и его реализацию». Задача науки о государстве точно также, есть не что иное, как «попытка понять и представить государство, как нечто в себе разумное»[3].
Но идеалистическое содержание объединяется в философии Гегеля с диалектической формой; форма движения его «разумной сущности» — диалектический метод. Диалектика же требует от мыслителя изучения действительных связей и действительного развития явлений. Последовательное применение диалектики неизбежно должно сделать его враждебным всякому субъективизму, — суждению, основанному, по словам Гегеля, на том, что «каждый извлекает из своего сердца, настроения и воодушевления», «на субъективном чувстве и частном убеждении». Наука о праве и государстве для Гегеля — особый этап развития «науки об объективном духе». Он ставит своей задачей изучать «богатое расчленение нравственного в себе, каким является государство, архитектонику его разумности»... Философия именно «потому, что она есть обоснование разумного, является, вместе с тем, постижением настоящего и действительного, а, не утверждением потустороннего». «Что разумно, то и действительно» — гласит знаменитое положение Гегеля. Каждый индивидуум — сын своего времени, и философия «постигает в понятиях свое время», а «не строит для себя мир, каким он должен быть». Как определенное мышление о мире, философия получает свое развитие только после того, как «действительность завершила процесс своего образования». Только «зрелость действительности» позволяет противопоставить идеальное реальному: сова Минервы — говорит Гегель — начинает свой полет лишь с наступлением сумерек[4].
Гегелевская «идея», таким образом, с одной стороны, оказывается тем «вечным» во всем развивающемся и преходящем, той его «имманентной сущностью», которая не позволяет области объективного духа быть, по выражению Гегеля, «покинутой богом», которая конструирует эту область в своем развитии. С другой стороны, идея рассматривается как нечто последующее по отношению к действительности, как нечто зависящее в своем развитии исключительно от самой объективной действительности. Уже здесь чувствуется вся непоследовательность Гегеля, внутренняя противоречивость, или, как ее определяет Маркс, «основной дуализм» гегелевской логики. Это внутреннее противоречие гегелевского метода, находящее себе дальнейшее выражение в противоречии его метода и его системы, оно неизбежно, поскольку идеалистическая диалектика и не может быть последовательной до конца, последовательно-объективной формой познания; в противном случае объективный идеализм должен был бы перерасти в материализм. Только материалистическая диалектика является лишенной всяких логических противоречий, выдержанной от начала до конца методологической формой. Неудивительно, что «логический, пантеистический мистицизм» Гегеля приводит его, прежде всего, к нарушению и искажению своей собственной диалектики: к подмене действительного развития развитием логическим, к подмене реального синтеза «мнимым тождеством», «единством в идее», к затушевыванию основного и движущего нерва диалектики — истинной природы противоречия. «Основной дуализм» гегелевской логики[5] постоянное перепутывание им того, что является субъектом действительного развития, а что лишь его предикатом — этот основной дуализм логики создает «дуализм» и в философии права; он сказывается — с методологической стороны — и на способе разрешения Гегелем целого ряда социально-исторических и теоретико-правовых проблем.
В связи с этим большой интерес представляет не только содержание критики Маркса, но и самый методологический подход, применимый им в критике той всесильной «системы», которая своей внешней монолитностью довлела над умами тогдашнего немецкого, а отчасти и нашего российского гегельянства. В работе Маркса отчетливо обнаружила себя пройденная им диалектическая школа Гегеля. Маркс подходит к анализу Гегеля не только как радикальный политик и как новоявленный материалист фейербахианского толка, но, прежде всего, как опытный диалектик, блестяще овладевший методом своего прежнего учителя и уяснивший себе все его ошибки и недостатки. Последнее обстоятельство придает критике Маркса явное преимущество перед абстрактной, «гуманистической» критикой Фейербаха, под несомненным влиянием которого Маркс в этот период находился. Маркс не просто повторяет здесь Фейербаха, но идет уже значительно дальше Фейербаха. Стремления Фейербаха к природе, к чувственности, к человеку, несомненно, представляли собой шаг вперед по сравнению с гегелевским логицизмом. Однако, сами по себе эти стремления носили абстрактный характер. Это была та зловещая грань, на которой абстрактный материализм соприкасается в ряде своих выводов с абстрактным идеализмом. Проводя свою критику под знаком диалектического рассмотрения, Маркс уже на этом раннем этапе полнее и глубже оценивает все своеобразие конкретной действительности, а потому часто оказывается в большей степени материалистом, чем сам Фейербах. Единство, существующее между материализмом и диалектикой, находит себе на этом примере лишнее блестящее подтверждение. И, вместе с тем, именно работа Маркса над Гегелем, именно последовательная критика им недостатков идеалистической диалектики вносит не мало ценных черт и в теорию материалистической диалектики. Редко где в последующих работах Марксу приходилось так обстоятельно останавливаться на взаимной связи диалектических категорий и давать им столь полное материалистическое освещение[6]!
Это относится, в первую очередь, к нашему пониманию природы диалектического противоречия. Отличая непримиримое противоречие от противоположности, Маркс вносит ряд существенных пояснений в учение о единстве противоположностей. По словам Маркса, «глубина Гегеля сказывается в том, что он везде начинает с противоречия определений — как они реализованы в наших государствах — и это делает главным предметом своего исследования». Так обстоит у Гегеля с противоречием законодательной власти и конституции, как высшего закона. То же мы читаем и в другом месте: «более глубоким является у Гегеля то, что он разрыв между гражданским обществом и политическим ощущает, как противоречие»[7]. Но Гегель не дает действительного разрешения своим антиномиям, он «довольствуется мнимым разрешением» противоречий, их чисто внешним примирением. Так, для коллизии между конституцией и законодательной властью он находит разрешение в постепенном изменении конституции. Несуществующее в исторической действительности тождество гражданского общества и государства Гегель — как мы увидим далее — хочет отыскать в «сословном элементе законодательной власти» и т. п.
По словам Маркса, здесь допущен ряд ошибок в области самого диалектического метода. «Основная ошибка Гегеля заключается в том, что он противоречие явлений понимает, как единство в сущности идеи, между тем как указанное противоречие имеет своею сущностью нечто более глубокое, а именно существенное противоречие», «противоречие с самим собой». Так, например, противоречие конституции и законодательной власти есть, в действительности, внутреннее противоречие самой конституции. Это последнее противоречие опирается, в конечном счете, на основное, «существенное» противоречие политического государства и гражданского общества. Маркс противопоставляет критику философскую или диалектическую той догматической, чисто внешней критике, которую проводит в данном случае Гегель. «Философская критика современного государственного строя не только вскрывает существующие противоречия, но и объясняет их: она понимает их генезис, их необходимость[8]. Непонимание «существенного», имманентного характера реализующихся противоречий, непонимание того, что они необходимо соответствуют данному этапу исторического развития приводит Гегеля к тому, что он становится невнимателен к «требованию разрешения этого противоречия». Между тем, разрыв, скажем, между гражданским обществом и государством может быть разрешен вовсе не путем воссоздания средневековых политических корпораций, как этого хочет Гегель, а, наоборот, путем движения вперед при помощи назревшего исторического «отрыва» гражданских сословий от якобы осуществляющегося политического их представительства.
Диалектическое противоречие, таким образом, есть противоречие необходимое, противоречие внутреннее, противоречие «с самим собой». Это — не простое различие, и не противоположность двух сил, направленных в разные стороны, но противоположность в самой сущности явления противоположного другому, противоположность существенная. Иначе обстоит дело, если противоположность образующих единую сущность и взаимно дополняющих моментов обострилась до непримиримого противоречия «крайностей». Напр., противоположность сословного элемента законодательной власти и самой законодательной власти «обострилась до противоположности, носящей характер борьбы и даже приняла характер непримиримого противоречия»[9]. То «тождество», которое Гегель стремится отыскать между гражданским обществом и государством, есть, в действительности, «тождество двух враждебных армий»[10]. Гегель, например, видит в фигуре князя «крайность», которая из положения «крайности» становится у него органическим моментом, связью, «срединой» между государством и обществом. Между тем, по словам Маркса, «действительные крайности не могут быть опосредствованы именно потому, что они являются действительными крайностями». «Они не имеют между собой ничего общего, они не желают быть связанными между собой, они не дополняют друг друга. Одна крайность не имеет в себе самой тоску, потребность, антиципацию другой крайности»[11].
Глубокий интерес для теории диалектики представляют последующие соображения Маркса, в которых он проводит различие между «противоречиями кажущимися» и «противоречиями непримиримыми», между противоположными моментами одной сущности и «действительными крайностями». Противоположности «взаимнопритягиваются», взаимно дополняют друг друга. «С другой стороны, всякая крайность есть своя крайняя противоположность». Маркс различает здесь две группы лишь кажущихся непримиримыми противоречий. «Северный и южный полюс — говорит он — являются одинаково полюсами, их сущность идентична; точно также мужской и женский пол образуют один и тот же род, одну сущность, а именно человеческую сущность». Сущность развивается и в процессе своего развития дифференцируется, она обнаруживает различия в самой себе, в своих собственных определениях. Но эти взаимно дополняющие друг друга и переходящие одно в другое различия суть «различия в тождестве», различия в единой сущности, лишь формы существования которой и представляют собою различенные определения. «Север и юг — замечает Маркс — суть противоположные определения одной и той же сущности различия сущности на высшей ступени ее развития. Они представляют собою дифференцированную сущность. Они суть то, что они суть, лишь как различенное определение, и именно как это различенное определение сущности. Истинными и действительными крайностями были бы полюс и не полюс, человеческий и не человеческий пол. Здесь различие есть различие существования, там — различие сущности, различие двух сущностей[12].
Но имеется еще одна группа противоположностей, лишь в известном смысле дополняющих одна другую и создающих видимость противоречий. Здесь, на примере соотношения между метафизическим материализмом и метафизическим идеализмом, Маркс бросает свет на глубочайший вопрос диалектической гносеологии. Напр., говорит он, «абстрактный спиритуализм есть абстрактный материализм, абстрактный материализм есть абстрактный спиритуализм материи». Казалось бы, что здесь, в этих взаимно дополняющих определениях мы имеем непримиримую противоположность двух сущностей, материи и духа. В действительности, и здесь, по словам Маркса, мы обнаруживаем некоторую единую «реальную сущность» обоих философских воззрений, противоположность их в одном и том же отношении. Понятие материализма или спиритуализма здесь «берется абстрактно», «это понятие имеет значение не как нечто самостоятельное, а в качестве абстракции от чего-то другого и лишь как эта абстракция». «Один принцип выступает лишь как абстракция от какого-либо другого, вместо того, чтобы выступать как целостность в себе самом»[13]. Абстрактное, а не целостное, не конкретное рассмотрение материализма превращает его в свою собственную «абстрактную противоположность». Абстрактно взятый материализм, гипостазированная абстракция — вот реальная сущность спиритуализма. Какая глубина диалектического воззрения сказалась уже в одном этом сопоставлении молодого Маркса! Как много говорит оно нашему времени, где в новой форме продолжается начатая еще Марксом борьба с абстрактным, механическим материализмом!
Развитая противоположность превращается в противоречие, действительные противоположности, обостряясь, переходят в «крайности». Отличие «крайностей» от противоположных определений одной и той же сущности заключается в том, что хотя одна крайность, по своей собственной сущности, предполагает возможность другой крайности, но предполагает ее только как враждебную, стало быть, уже ненужную для истинной действительности, а не как взаимно дополняющий, «опосредствующий» момент этой действительности. Обе крайности выступают здесь как «действительные», как необходимые моменты действительности. Однако, право на истинную действительность на каждом этапе развития оказывается на стороне только одной крайности, занимающей по отношению к другой крайности доминирующее положение. «Свойство быть крайностью кроется ведь лишь в сущности одного из этих моментов, и этот момент не имеет для другого значения истинной действительности. Один момент занимает здесь доминирующее положение по отношению к другому». Заметим здесь попутно, что это доминирующее положение одной из противоположностей имеет место и до развития противоположности в противоречие — во всех случаях развития. Именно оно и является стимулом становления, развития: содержание доминирует над формой, закон над явлением и т. д.
Изучение природы противоречия и отличия его от простой противоположности обеспечивает, по Марксу, возможность избежать при диалектическом рассмотрении ряда серьезных ошибок. Во-первых, той ошибки, что «всякая абстракция и односторонность считает себя за истину»: ошибки нецелостного, неконкретного рассмотрения. Далее, того оппортунистического заблуждения, «что резкость действительных противоположностей считается чем-то вредным или что считают нужным по возможности помешать превращению этих противоположностей в крайности». Пытаются помешать обострению противоречий, пытаются эти непримиримые крайности все же как-то примирить, «опосредствовать их». Между тем превращение противоположностей в крайности и обострение таким путем противоречий являются совершенно необходимым условием их разрешения: «это превращение, по словам Маркса, означает нечто иное, как с одной стороны — их самопознание, так с другой стороны — их воодушевление к решительной взаимной борьбе...»[14].
Процесс развития никогда не ограничивается этапом отождествления, единства противоположностей. Самопознание противоположностей — это их самоопределение, это — перерастание простого их различия в абсолютное различие, не допускающее больше их взаимного опосредствования, их сосуществования в целостном единстве. Развитие непримиримых крайностей означает, что они уже перестали быть противоположными определениями одной внутренне-противоречивой сущности. Различие противоположных определений переросло в различие двух «временно еще сосуществующих, но уже явно враждебных сущностей». Важно подчеркнуть, что «самопознание» и решительная борьба перерастают прежнее единство противоположностей. Как позже блестяще выразил эту мысль Ленин, «единство противоположностей условно, временно, преходяще, релятивно. Борьба взаимноисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно различие, движение»[15].
Учение о единстве противоположностей получает здесь у Маркса блестящее применение к разрешению вопроса о связи «сущности» и ее формы проявления, о связи «всеобщего» и «особенного». «Действительного дуализма сущности не бывает», замечает Маркс[16]. И, действительно, материалистическое понимание «сущности» понимает под ней только внутреннюю связь явлений, или, как выражается в данной работе Маркс, «закон вещи», «природу вещи». Форма проявления, поэтому, всегда объективна, всегда вытекает из природы сущности и находится с ней в соответствии. Идеалистическая абстракция разрывает целостное единство сущности и формы ее проявления. Она рассматривает форму проявления, лишь как противоречащую сущности иллюзорную видимость. Или же она механически связывает сущность с несоответствующей ей чисто эмпирической, а потому действительно иллюзорной формой. Маркс обнаруживает всю непоследовательность Гегеля, который, с одной стороны, хочет видеть в государстве «реализацию свободной воли», а, с другой стороны, предпочитает решительному и сознательному изменению закона, — по его мнению, якобы иллюзорному, — мирное, непрерывное («по кусочкам») изменение конституции. Гегелевский идеализм становится здесь методологической предпосылкой его политического консерватизма. Разумеется, заявляет Маркс, новые потребности возникают постепенно и старое подвергается разложению уже в рамках старой конституции, но «для установления новой конституции требовалась всегда настоящая революция»[17]. Точно также ничего общего с диалектикой не имеет и та чисто эмпирическая связь, которую Гегель хочет установить между «публичным сознанием», между «всеобщим делом», как содержанием государственной власти и «сословным элементом», как ее формой. Содержание и форма должны рассматриваться в своем взаимном переходе одного элемента в другой. Они должны рассматриваться как «в себе», так и «для себя»: форма есть «самопознание» содержания. Между тем, — по словам Маркса — Гегель «разъединяет содержание и форму, в себе и для себя, делая из последнего лишь внешне привходящий, формальный момент»[18].
Основным грехом Гегеля является здесь его «субстанциальная точка зрения», т. е. представление о сущности, о «всеобщем», как о чем-то самостоятельном, ведущем особое существование от формы проявления, от частного, особенного. Эта дуалистическая и метафизическая по форме точка зрения есть точка зрения идеалистическая по своему содержанию. Переход от «общего» к «особенному» чисто логически дедуцируется Гегелем, а вовсе не вытекает у него из реальной природы самого «особенного». Так, например, переход семьи и гражданского общества в государство «выводится им не из особенной сущности семьи и т. д., не из особенной сущности государства, а из общего отношения необходимости и свободы»[19]. То же обнаруживается и в учении Гегеля о суверенитете. Гегель мистически субъективирует государство: он исходит при этом не из подлинных, реальных субъектов, но из всеобщих определений, не имеющих реального носителя. В силу этого дуализма Гегель «всеобщее не рассматривает как действительную сущность действительно конечного, т. е. существующего, определенного, или действительное существо не считает подлинным субъектом бесконечного»[20]. Лишь органическое единство формального и материального принципа «есть — по словам Маркса — подлинное единство всеобщего и особенного»[21].
Обособление «всеобщего» ведет Гегеля в болото ползучего эмпиризма и механического понимания. По словам Маркса, тут происходит «необходимый переход эмпирии в умозрение и умозрения в эмпирию». «Как только Гегель обособляет всеобщее, как нечто самостоятельное, он его непосредственно смешивает с эмпирической реальностью и немедленно же некритическим образом начинает принимать ограниченное за выражение идеи»[22]. Прусская монархия с ее бюрократией и сословным представительством начинает служить у него выражением «идеи» государства, государства «вообще». «Частное сознание» прусской бюрократии возводится Гегелем в ранг «публичного сознания». Неудивительно, после этого, что Гегель «может, например, рассматривать действительное публичное сознание, как сумму частных сознаний»[23]. Между тем, задача философской диалектической критики — не в дедуцировании из логических понятий, а в том, чтобы показать развитие общего в особенном — на самом конкретном своеобразии предмета. Философская критика, говорит Маркс, «берет современный государственный строй в его специфическом значении. Это понимание, однако, не сводится к тому, чтобы, как это себе представляет Гегель, везде находить определения логического понятия, а в том, чтобы постигнуть своеобразную логику своеобразного предмета»[24].
У Гегеля конкретное развивается лишь по видимости. В действительности же «первая попавшаяся эмпирическая реальность прусского государства» «вставляется» и «подводится» им под общее, например, под идею государственного организма, при чем для этого рассматривается только с нужной стороны. «Благодаря тому, что организм определяется, как “развитие идеи”, что сначала говорится о различиях идеи, а затем вставляется конкретное: “различные власти”, создается иллюзия, будто мы имеем тут перед собою последовательное развитие определенного содержания»[25]. Таким путем Гегелем смазывается все различие между общей категорией (государства вообще) и специфической природой эмпирической реальности (прусского и вообще современного государства). Короче говоря, метод Гегеля сводится здесь «к тому, что своеобразные особенности предмета наполовину сознательно элиминируются и этому ограниченному таким образом предмету придается затем смысл, противоположный его ограниченности»[26].
Крайне характерно, что изложенные здесь методологические приемы Гегеля Маркс обозначает не только как «спекулятивное таинство логики», но одновременно и как «дуализм», «средину», «смесь». Крайне важно, что именно идя по линии последовательного применения развитой Гегелем диалектики, Маркс полнее всего выявляет недостатки и гегелевского идеализма. Идеалистическое содержание гегелевой философии делает невозможным последовательное применение им диалектического метода, приводит его к абстрактному логицизму. Нарушения диалектики, со своей стороны, усугубляют идеализм гегелевской философии права и его системы вообще. Но к столь же печальному итогу приходит абстрактный материализм, чуждый конкретного своеобразия явлений, а потому также не преодолевающий полностью идеалистического логицизма, хотя бы со стороны изучения конкретных определений действительности. Материалистическая критика и переработка диалектических категорий Гегеля — таков предуказанный Марксом и единственно правильный путь к конкретному материализму, к материализму диалектическому.
Несколькими месяцами позже Маркс — наряду с самой жестокой критикой гегелевского спиритуализма, его «некритического идеализма» — в следующих выражениях описывал этот пройденный им путь: «Положительная сторона сделанного здесь Гегелем в его спекулятивной логике заключается в том, что определенные понятия, общие неизменные формы мышления представляют в их самостоятельности по отношению к природе и духу необходимый результат всеобщего отчуждения человеческой сущности, а значит и человеческого мышления, и что Гегель поэтому изобразил их, как моменты процесса абстракции»... «Абстракция, постигающая себя, как абстракцию, знает, что она есть ничто; она должна отказаться от себя, абстракции, и таким образом, она приходит к сущности, являющейся прямой противоположностью ее, приходит к природе». «Созерцая природу, абстрактный мыслитель узнает, что существа, которые в божественной (идеалистической — И. Р.) диалектике он мнил себе создать, как чистые продукты самодовлеющей и никогда не разглядывающей действительности работы мысли, из ничего, из чистых абстракций, он узнает, что они не что иное, как абстракции некоторых природных явлений»[27].
II
Опубликованная рукопись интересна, однако, не только своим значительным философским содержанием. Не менее ценный материал дает она историку, социологу, теоретику права. Нужно лишь не смущаясь перед трудностями своеобразной философской терминологии, свойственными началу 40-х годов, постараться до конца продумать выявленную в ней точку зрения Маркса.
Как совершенно правильно указал в свое время А. М. Деборин, «не только метод Гегеля, но и определенные, необходимо связанные с методом, результаты его исследования в области общественных наук, не прошли бесследно для Маркса»… «Гегелевская социальная философия (его учение об обществе и историческом процессе) также послужила для Маркса исходной точкой в разработке и основ материалистического понимания истории, и специфического учения об обществе и государстве»[28]. Совершенно необходимо поэтому отчетливо уяснить себе точку зрения Гегеля на взаимоотношения между обществом и государством и ее историческое значение для его современников.
Гегелевская философия права представляет собой как мы уже видели развитие объективного духа: она исходит из диалектической взаимосвязи между необходимостью и свободой. В этом отношении она стремится дать «преодоление» и синтез как рационализма и индивидуализма естественного права, так и «хвостистского» эмпиризма немецкой исторической школы. Гегель, как мы уже знаем, решительно восстает против свойственных его времени попыток «рефлексии и тщеславия» построить философию права из «субъективного убеждения», из «воодушевления», из «произвола». Он высказывается против теорий, которые «воспринимают право в виде обязанностей и законов, как мертвую, холодную букву и как сковывающие их узы, которые взывают к «так называемому народу» и «строят себе мир, каким он должен быть». В этих революционных теориях сказывается чисто абстрактное понимание «свободы» и «разумного». «Ложно полагать», заявляет Гегель по поводу учения об общественном договоре, «что можно по произволу всех создать государство; скорее для каждого абсолютно неизбежно находиться в государстве»[29]. Кантовский категорический императив также носит, по мнению Гегеля, слишком абстрактный характер — в нем «отсутствует всякое расчленение», отсутствуют совершенно «определенные принципы»[30]. Задачу философии права Гегель видит «в примирении с действительностью; цель ее — «понять и представить государство, как нечто в себе разумное»[31]. В переводе на материалистический язык, это значило бы — понять государство и право, как нечто исторически необходимое, развивающееся как нечто исторически неизбежное на определенной ступени.
Но самую действительность Гегель мыслит лишь как разумную, разумно осознанную действительность. Последняя ведет его к не менее жестокой критике воззрений Гуго и Савиньи — представителей господствовавшей в его время исторической школы права. Он резко возражает — предваряя этим позднейшую критику Маркса — против стремлений Гуго — для всякой дурной вещи, для всякого исторически имевшего место закона находить «доброе основание» и на этом успокаиваться. Точно также «величайшим оскорблением» считает Гегель явно реакционную попытку Савиньи отказать современности в праве создания законодательства; правда, сам Гегель при этом ограничивает законодательное творчество лишь систематизацией и «осмыслением» существующего обычно правового и законодательного материала современности.
Философское рассмотрение права нужно соединить с историческим рассмотрением его развития — таков исходный пункт Гегеля. Нельзя противопоставлять «естественное право» или «философское право» праву позитивному, как нечто противоречащее ему и враждебное. Но нельзя ограничиться и чисто эмпирическим, чисто историческим рассмотрением проявляющихся во времени правовых определений, «объясняя» их близкими или отдаленными историческими причинами: такое «внешнее» происхождение права еще не есть по Гегелю, его происхождение из понятия, из «идеи права»[32].
Уже Кант и Фихте в известной мере подготовили ряд философско-правовых понятий, в дальнейшем использованных Гегелем. Особенно много сделал в этом отношении Фихте в своем учении о развитии абстрактно-свободного «я» к «государству нужды и рассудка»[33]. Для Гегеля развитие идеи права реализуется в трех ступенях: абстрактного права, морали и нравственности, точнее — бытовых нравственных отношений. «Ближайшее место и отправной пункт права — воля, которая свободна». Проявляясь во вне, в своем отношении к вещам, абстрактная воля ограничивается и в то же время получает объективное существование. Однако, Гегель возражает против чисто индивидуалистического понимания этой воли, которое имело место у Руссо и у Канта. Ограничение одной воли другой волей нужно понимать совершающимся не механически, но диалектически — как проявление развивающейся в них внутренней, разумной необходимости. Первая ступень развития права — ступень «рассудочная», сфера формального или абстрактного права, основными понятиями которой являются собственность, договор и лицо, т. е. субъект права. Иными словами — это та юридическая логика, логика юридических понятий, которая для идеалиста Гегеля, как некая идея абстрактного блага, должна предшествовать развитию конкретного права.
Свободная воля, будучи «рефлектирована в себя», т. е. будучи рассматриваема, как субъективная единичность, противостоящая правовой всеобщности, создает в своем развитии новую сферу — сферу морали. Но и сфера формального права, и сфера субъективного его восприятия, в моральных переживаниях единичного субъекта — обе они суть абстракции: их истина, конкретное единство объективного и субъективного образует сферу нравственности, быта. Именно об этом переходе Гегеля от абстрактного права к конкретным отношениям Маркс писал впоследствии, что для философского сознания «движение категорий кажется действительно созидающим актом». У Гегеля правильно здесь лишь то, что «конкретная совокупность, в качестве мысленной совокупности, мысленной конкретности, есть на самом деле продукт понимания, мышления». «Гегель правильно начинает философию права с владения, как простейшего правового отношения субъекта. Но никакого владения не существует до семьи»... «Конкретный субстрат, отношением которого является владение постоянно предполагается». Доля истины у Гегеля в том, что «простейшие категории суть выражения условий, в которых может реализоваться неразвившаяся конкретность», и т. д.[34].
К сожалению, мы не можем в данной связи останавливаться на воззрениях Гегеля — самих по себе весьма интересных — на формальное право и на мораль. Наше основное внимание должна привлечь «сфера нравственности», в частности — развитие в ней понятий гражданского общества и государства. Отношения нравственности, как это устанавливает Гегель, суть ничто иное, как продукт простого «приспособления индивида к обязанностям, вытекающим из обстоятельств, в которых он находится». Вследствие тождества воли «всеобщей» и воли «особенной», в этой сфере могут совпадать, как нечто единое, права и обязанности. Это единство права и обязанности в свободной воле непосредственно осуществляется в семье. Рабское состояние не знает такого единства. И, действительно, семья, в изображении Гегеля, есть нечто связанное с современным обществом: будучи выражением имманентной ей свободной воли, она имеет, одновременно, «внешнюю» основу в собственности. Множество семей, олицетворяясь каждая в конкретном лице, вступают в отношения одна к другой. Связь их создает единство двух начал — особенного и всеобщего: последнее реализуется в гражданском обществе. «Система всесторонней зависимости», при которой «существование и благо единичного лица и его правовое бытие переплетено с существованием, благом и правом всех прочих» — таково, по Гегелю, «внешнее государство — государство нужды и рассудка»[35].
Гражданское общество основано на удовлетворении индивидом своих субъективных потребностей и своего случайного произвола. В то же время на этом удовлетворении отражается «власть всеобщего», так что в форме случайного проявляется необходимое. «Гражданское общество — говорит Гегель — представляет в этих противоположностях и их развитии картину одновременно и распутства, и нужды, и общественного физического и нравственного опустошения». Свобода здесь переходит в необходимость, особое становится формой всеобщего. Так как «всеобщая» необходимость, в действительности способствующая реализации частных интересов, представляется индивидам только средством для достижения их частных целей и «не осознается, как таковая, сознанием членов гражданского общества, то свобода их становится лишь формальной свободой»[36]. Осуществление всеобщности через посредство удовлетворения субъективных потребностей протекает в деятельности и труде. Эта «система потребностей» — предмет изучения политической экономии, науки, «возникающей — по словам Гегеля в новое время, в котором она находит свою почву». «Всеобщее и объективное в труде — замечает Гегель — заложено в абстракции, воздействующей на спецификацию средств и потребностей и вызывающей разделение труда». Упрощая характер труда, эта «абстракция от способностей и средств завершает развитие зависимости и взаимоотношений людей в удовлетворении ими прочих потребностей к полной необходимости». Та же абстракция делает возможной замену человека машиной. Так осуществляется то «диалектическое движение, в котором каждый, добывая, производя и потребляя для самого себя, тем самым производит добывает для потребления прочих» — своего рода «имущественная общность».
Гегель полагает, что различный характер участия своим особым имуществом в этой хозяйственной общности и наблюдающееся имущественное неравенство обусловлены первоначальными физическими и духовными данными индивидов. Но он понимает одновременно, что «движение многочисленных средств и их взаимные производство и обмен вызывают — через посредство имманентной им всеобщности — собирание и различение всеобщих масс людей, так что вся общественная связь образует различные системы потребностей, средств и труда,... к коим принадлежат отдельные индивиды — образует различные сословия». Этих основных сословий, по Гегелю, три: «субстанциальное» сословие земельных собственников, сословие промышленности, куда относятся ремесленники, фабриканты и торговцы, и наконец, «всеобщее» сословие, занятое публичными делами. Принадлежность к тому или иному сословию осуществляется людьми в силу внутренней необходимости, но опосредствует произволом, так что представляется индивидам делом собственной воли.
Самая действительность гражданского общества уже такова, что она настоятельно требует обеспечения особых, частных интересов, защиты собственности. Последнее достигается, по Гегелю, путем отправления правосудия, а также через такие правовые учреждения, как полиция и корпорации. Установление и опубликование законов, суд, осуществляющий право, публичность правосудия, наконец, гарантирующая безопасность лиц и их имущества могущественная представительница «всеобщего», полиция — таковы необходимые составные элементы гражданского общества.
Гегель не упускает из виду, однако, и его теневых сторон. «Когда гражданское общество беспрепятственно осуществляет свою деятельность, то оно внутри себя осознается, как процесс населения и индустрии. По мере того, как связанность людей их потребностями и способами производства становится всеобщей, усиливается, с одной стороны, накопление богатств, а, с другой стороны, детализация и ограниченность особых родов труда и потому зависимость и нужда связанного с этой работой класса»... «Опускание большой массы людей ниже определенного минимума средств существования... влечет за собой образование плебса, что в свою очередь вызывает легкую возможность концентрировать несоразмерные богатства в немногих руках». Таким образом, получается, что «несмотря на чрезмерность богатств, гражданское общество недостаточно богато», т. е. не в состоянии своим достоянием воспрепятствовать образованию плебса. Внутренняя диалектика развития толкает гражданское общество за свои собственные пределы, — в поисках потребителей, товаров в поисках заработка и т. д. «Так это огромное посредствующее звено связи приводит отдаленные страны к меновым отношениям, стало быть — к правовым отношениям, основанным на договоре, в котором обмен находит свое величайшее орудие, а торговля получает свое всемирно-историческое значение». Дальнейшим шагом здесь является образование колоний[37]…
Панацею от всех указанных им социальных бедствий Гегель видит в корпорациях, — в самой сословной или цеховой системе. В корпорации, по его мнению полнее всего достигается и признается обеспечение минимума средств существования: здесь осуществляется общественная деятельность индивида, здесь помощь, оказываемая бедноте, теряет свою случайность, а богатство утрачивает свое высокомерие, личность перестает быть изолированной и т. д., и т. п. Наконец, корпорации же, по Гегелю, являются наиболее прочной основой государства.
Здесь мы приходим к третьей и высшей ступени развития гегелевского понятия «нравственности». То целостное единство, которое непосредственно имеет место в семье и которое сменяется раздвоением всеобщего и особенного, необходимости и свободы в пределах гражданского общества — это утраченное единство вновь восстанавливается в опирающемся на сословия государстве. Государство, по Гегелю, — это «действительность нравственной идеи»: хотя оно представляется результатом развития научного понятия, но является его истинным основателем, тем первым, той бесконечной формой, внутри которой семья формируется в гражданское общество. Это — «действительность субстанциальной воли», «действительность конкретной свободы», поднявшаяся до самосознания, — нечто в себе и для себя разумное, поскольку в нем достигается единство общей воли и единичной, субъективной свободы. Это — целостный организм, развивающийся в различии сторон своей деятельности, в форме различия властей находящий свое выражение в политической конституции. В этих общих определениях, которые Гегель дает своему государству, следует, однако, различать государство в идее и действительные, исторические государства. «Каково историческое происхождение государства вообще, или скорее каждого отдельного государства, его прав и определений, произошло ли оно вначале из патриархальных отношений, из страха или доверия, из корпораций и т. д. — все это по Гегелю — не относится к самой идее государства», не относится к философскому его рассмотрению. «Внешность проявления — случайность нужды, потребность в охране, силу, богатство и т. п.» в философском рассмотрении все эти моменты «следует брать не как моменты исторического развития, но как субстанцию государства»[38]. Семья и гражданское общество, указывал в своем лекционном курсе Гегель, — это не ступени исторического развития государства, но два необходимых момента или стороны единства: государство «лишь постольку живет, поскольку оба момента, семья и гражданское общество, развиты в нем»[39].
Свое философское понятие государства Гегель противопоставляет государственным воззрениям Платона, Руссо, фон-Галлера. Заслугу Руссо Гегель видит в создании мысленного понятия государства; в этом достоинство и реставрационной философии фон-Галлера, строящего, не смотря на все его недостатки, свое целое «из единого куска». Но Руссо — по мнению Гегеля — не видит имманентной разумности государственной воли, ее необходимого развития: он исходит из единичной воли, чтобы прийти к понятию общественного, стало быть из субъективного мнения и произвола. Неудивительно, что «эти абстракции, претворившись в силу, вызвали ужаснейшее со времен человеческой истории зрелище — стремление построить конституцию большого действительного государства при помощи переворота всего существующего и данного, заранее положив в основу ее мысль, то, что лишь представлялось разумным»[40]. Наряду с крайним рационализмом Руссо, возражения со стороны Гегеля вызывает и феодальный утопизм Платона, который в своем государстве стремится исключить «особенность», индивидуальность, всецело подчинив ее государству. По мнению Гегеля, «целое получает силу, когда особое находится в гармонии с нравственным единством»; «сущность современного государства в том, что все общее связано с полной свободой и благосостоянием индивида»[41].
На этом необходимо прервать затянувшееся изложение взглядов Гегеля, т. к. именно здесь и начинается критика их со стороны Маркса. Но уже из всего сказанного ясно, какие результаты философско-правового исследования Гегеля — наряду с его диалектическим методом — легли в основу дальнейшего марксистского понимания общества и государства. В своем учении о гражданском обществе Гегель дает философское преломление основных категорий классической политической экономии. Гражданское общество, с его разделением труда и системой «взаимозависимости», с его субъективным произволом и внутренней необходимостью, с его «недостаточным» богатством и нуждой, ведущей к крайне низкому уровню средств существования, со все расширяющейся ролью рынка и развитием права, с делением на классы, сословия и классовой борьбой — ведь это подлинная анатомия буржуазного общества! Некоторые отрывки гегелевской философии права так и будят в памяти соответствующие страницы «Капитала». Но, выступая, как теоретик нового буржуазного общества, Гегель-диалектик освещает его развитие, как необходимое развитие, при том развитие конкретное, совершающееся в противоречиях. В этом его огромное преимущество над рядом классических экономистов, не шедших — по словам Маркса — дальше самых общих «тощих абстракций». Стоя — несмотря на все свои колебания — в общем на точке зрения буржуазного общества, Гегель умеет порой возвыситься над буржуазной односторонностью. От метода Гегеля, стремящегося избежать крайностей рационализма и эмпиризма — прямая линия к методу «Введения к критике политической экономии»[42].
Даже противопоставление гражданского общества и государства, — к которому мы еще вернемся, — противопоставление частных интересов «общей воле», человека гражданского общества тому же индивиду, но уже представительствующему во «всеобщей воле» — разве оно не является тем плодотворным отправным пунктом, из которого исходили Маркс и Энгельс в своем учении о государстве? Не проводя еще отчетливого различия между классами и сословиями, Гегель говорит, однако, уже о классах, классовых противоречиях, даже о классовом сознании пролетариата. Характерны в этом отношении и такие, напр., записи лекционного курса Гегеля, приводимые Эдуардом Гансом: «Бедность сама по себе еще никого не делает плебеем; он становится определенно им через посредство связанного с бедностью сознания, через посредство внутреннего возмущения против богатых, против общества, правительства и т. д.». Плебей рассматривает свой минимум существования «как свое право». «По отношению к природе человек не может утверждать свое право; но в общественном состоянии нужда приобретает тотчас форму несправедливости, которая причиняется тому или иному классу…»[43].
Но Гегель слишком мелкий буржуа, чтобы, при всей своей симпатии к нарождающейся буржуазной экономике, не бояться «крайностей» буржуазной революции, крайностей, неизбежных при противоречивости экономического развития. Для него пролетариат — еще только «плебс», т. е. чернь, которой свойственно лишь разрушительное начало, которая не несет с собой никакого положительного идеала. Как мелкий буржуа, Гегель предпочитает поэтому, в поисках спасения от грозящих социальных бедствий, повернуться спиной к истории. Он обращается к средневековому корпоративному строю и ищет в бюрократической сословной монархии ту систему социально-политических сдержек и противовесов, ту «систему опосредствования», которая одна только может обеспечить нормальное развитие государства, развитие «идеи государства»[44]. Вот почему и политическая система Гегеля страдает тем же «дуализмом», что и общая его методология: мы имеем в ней странное соединение некоторых черт английской конституции со средневековыми цеховыми и корпоративными идеалами тогдашней прусской монархии. Вот почему философия государства Гегеля могла стать прусской государственной философией, несмотря на то, что по мнению даже буржуазных ее комментаторов, в основном эта философия «вылита из металла свободы»[45].
Маркс — и это необходимо подчеркнуть, — всецело исходит в своей критике из гегелевской революционной теории гражданского общества, развитие которого совершается в противоречиях. Но в противоположность Гегелю, Маркс выступает в своей критике, как последовательный буржуазный революционер, всячески изобличающий непоследовательность Гегеля с точки зрения революционной буржуазной идеологии, — бичующий его «прислужничество», его «нечистую совесть»[46]. Метод, применяемый при этом Марксом менее всего напоминает какое-либо «субъективное мнение и воодушевление»: непоследовательность Гегеля раскрывается Марксом путем правильного и последовательного доведения до конца гегелевской концепции гражданского общества, путем применения категорий собственной гегелевской диалектики. Различие позиций Маркса и Гегеля выступает с особенной отчетливостью в вопросе об основном движущем противоречии — между гражданским обществом и государством. Маркс целиком исходит здесь из того различия, которое совершенно необходимо проводить между простой «противоположностью» взаимно дополняющих моментов и ее развитием в «крайности», в непримиримое, существенное противоречие. Для Маркса не может быть и речи о примирении «в идее», т. к. ведь и государство Гегеля оказывается отнюдь не государством «в идее», но весьма эмпирическим, полуфеодальным государством.
Гегель одновременно говорит о внутренней зависимости характера частного права от характера государства и о связывающей гражданское общество и государство внешней необходимости. Маркс ловит Гегеля на слове: отношение частного права к государству — должно рассматриваться как существенное отношение, т. е. как отношение, ведущее к непримиримому противоречию между ними. «Именно потому, —говорит Маркс, — что «подчинение» и «зависимость» являются внешними, сдавливающими самостоятельное существо и враждебными последнему отношениями, отношение семьи и гражданского общества к государству является отношением «внешней необходимости», т. е. необходимости, противоречащей внутренней сущности вещи... «Подчинение» и «зависимость» являются выражениями для «внешнего», насильственно навязанного, мнимого тождества, для обозначения которого Гегель логически правильно употребляет слово «внешняя необходимость»[47]. Гегель исходит здесь из мистического представления о связи между гражданским обществом и государством: для него — по образному выражению Маркса — семья и гражданское общество «являются как бы той темной стихией, на которой возжигается светоч государства... Действительное отношение семьи и гражданского общества к государству понимается как внутренняя, воображаемая деятельность идеи. Семья и гражданское общество являются предпосылками государства, именно они являются действенными, но в умозрении все это отношение ставится на голову». «Семья и гражданское общество сами себя превращают в государство. Они являются движущим моментом. По Гегелю же, они созданы действительной идеей»[48].
Основная ошибка Гегеля — это его непонимание того, что, в отличие от средних веков, «абстракция политического государства» от его единства с гражданским обществом для нового времени есть исторически неизбежная реальная абстракция, реальный продукт современности. «Политическая конституция, как таковая, — говорит Маркс — развилась только там, где частные сферы достигли самостоятельного существования, там, где торговля и частное землевладение еще несвободны, еще не достигли самостоятельности, там еще нет политического устройства, как такового». «Абстракция государства, как такового, характерна лишь для новейшего времени, т. к. только в новейшее время возникла абстракция частной жизни». В средние века частная сфера одновременно являлась и политической сферой, строй собственности и общественных организаций носил сугубо политический характер. То же в известной степени относится к древнегреческим республикам и к азиатским деспотиям. Здесь, по тогдашней терминологии Маркса, существует «субстанциальное единство между государством и народом», «политическое государство еще не выступает как форма материального государства». В современном же обществе «само государственное устройство стало самостоятельной действительностью рядом с действительностью народной жизни...»[49]. Между тем, «Гегель не дал нам объяснения развития правительственной власти». Он ее просто «дедуцирует» из общего понятия, поскольку сталкивается с ней, как эмпирической реальностью. Последнее тем более ошибочно, что, как справедливо указывает Маркс, в п. 289 гегелевской философии права уже находится в "зародыше" и должное "объяснение": «В этом рассуждении Гегеля — по словам Маркса — замечательно: 1) определение гражданского общества, как bellum omnium contra omnes, 2) что в частном эгоизме усматривается и «тайна патриотизма граждан», и источник глубины и силы, которыми государство обладает в умонастроении», 3) то, что «гражданин», человек частного интереса, рассматривается в противоположности всеобщему, член гражданского общества рассматривается как «законченный индивидуум», с другой же стороны, и государство противостоит «законченным индивидуумам», «гражданам»[50].
Но Гегель не делает нужных выводов из этого противопоставления, а потому впадает в иллюзию, когда находит «всеобщность» правительственной власти в не соответствующей ей эмпирической форме прусской бюрократии. Здесь «всеобщее дело», по словам Маркса, «существует, не будучи в действительности всеобщим делом. Оно менее всего является таковым, ибо оно не является делом гражданского общества... Иллюзией является, что всеобщее дело есть всеобщее дело, публичное дело, или иллюзией является, что дело народа есть всеобщее дело». Разрыв между общественным содержанием и политической формой приводит к тому, что «в современных государствах, как и в философии права Гегеля, осознанная, истинная действительность всеобщего дела является только формальной, или только формальное является действительным всеобщим делом». Эта «призрачная форма» должна, говорит Маркс, «обнаружить свою призрачность». Действительно всеобщим делом правительственная власть «становится лишь тогда, когда она перестает быть делом отдельной личности, а является делом общества. Это изменяет не только форму, но и содержание». Между тем, Гегель хочет найти разрешение этого противоречия в представителях, делегируемых сословиями гражданского общества в органы законодательной власти, в т. н. «сословном элементе законодательной власти». Этим «делегатам» гражданского общества противостоят, с другой стороны, чиновники, бюрократы, делегируемые государством к гражданскому обществу. Сословия должны оберегать государство от «неорганизованной толпы», входя в сделку с «государственным интересом», а, с другой стороны, оберегать всеобщий интерес от «изолированных» интересов. В итоге Гегель получает не разрешение противоречия, но лишь «сделку двух противоположных воль»[51].
Маркс блестяще показывает, что путем такого «тождества» достигается лишь обратное: противоречие между правительством и народом опосредствуется «при помощи противоречия между сословиями и народом», самый же народ из «представляемого» в сфере правительственной власти становится лишь «представлением, фантазией, иллюзией». Яркие страницы, посвящаемые Марксом действительной исторической роли сословий, заслуживают особого внимания. «Вершиной гегелевского тождества — говорит Маркс — были, как он сам сознается, средние века. Здесь сословия гражданского общества и сословия в политическом смысле были тождественны... Гражданское общество было политическим обществом... Органический принцип гражданского общества был принципом государства. Однако, Гегель исходит из разрозненности гражданского общества и политического государства, как двух прочных противоположностей, двух действительно различных сфер. Эта разрозненность и в самом деле существует в современном государстве. Тождество гражданских и политических сословий было выражением тождества гражданского и политического общества. Это тождество исчезло... Таким образом, лишь разрозненность гражданских и политических сословий выражает истинное отношение современного гражданского и политического общества». Нельзя поэтому в одном и том же смысле говорить о средневековых политических сословиях и политических сословиях в средние века, тождественных с сословиями гражданского общества. «Все существование этих последних было политическим существованием, их существование было существованием государства. Их законодательная деятельность, их вотирование налогов для империи представляли собой лишь особенную форму их всеобщего политического значения и их всеобщей действенности. Их сословие было их государством. Отношение к империи было лишь договорным отношением между этими различными государствами и нацией, ибо политическое государство, в отличие от гражданского общества, было не чем иным, как представительством нации... Всеобщая законодательная действенность сословий гражданского общества ни в коем случае не представляла собой достижения частным сословием политического значения и действенности, а скорее было лишь проявлением их действительного всеобщего политического значения и политической действенности... Сословия гражданского общества, как таковые, были в средние века также законодательными сословиями, потому что они не были частными сословиями, или потому что частные сословия были политическими сословиями». Никакого нового качества своим участием в законодательстве они не приобретали.
Совершенно иначе обстоит дело в современном Гегелю обществе, когда на деле обнаруживается разрыв между гражданским обществом и государством, когда сословия уже по существу не являются политическими сословиями, но лишь различиями гражданского общества. Нельзя, подобно Гегелю, довольствоваться мнимым их примирением в законодательной власти, «в то время как — по словам Маркса — презираемые им «т. н. теории» требуют «отрыва» гражданских от политический сословий, и требуют по праву, ибо они выражают этим принцип современного общества»... «Гегель не называет вопроса, о котором идет речь, его настоящим именем. Спор идет между представительным и сословным строем. Представительный строй представляет собой известный шаг вперед, ибо он является откровенным, неподдельным и последовательным выражением современного государственного состояния. Он представляет собой неприкрытое противоречие». Гегель указывает, что масса гражданского общества проявляется, как «распавшееся на свои атомы множество». По словам Маркса, «эта масса есть не только в явлении, но и realiter распавшееся на свои атомы множество». В качестве «атомов» гражданское общество проявляет себя и в политической деятельности, обнаруживая «особую сторону своей сущности». «Всеобщий закон — говорит по этому поводу Маркс — сказывается и в отношении каждой отдельной личности. Гражданское общество и государство оторваны друг от друга. Следовательно, и гражданин, как член государства, оторван от гражданина, как члена гражданского общества. Человек, таким образом, раздваивается. Как действительный гражданин, он себя находит в двойной организации: в бюрократической — она представляет собой внешнее формальное определение потустороннего государства, правительственной власти, не затрагивающей гражданина в его самостоятельной действительности, — и в социальной, в организации гражданского общества, но и в последней он в качестве частного лица, стоит вне государства... Чтобы достигнуть политического значения и политической действенности, гражданин должен выйти из рамок своей гражданской действительности, абстрагироваться от нее, уйти от всей этой организации в свою индивидуальность... Только как индивидуум гражданин может стать гражданином государства... Разрыв между гражданским обществом и политическим государством выступает необходимо как отрыв политического гражданина, гражданина государства, от гражданского общества... Как государственный идеалист, он является совсем иным существом, различным и отличным от своей действительности и даже противоположным последней»...
Эту абстрактную атомистику индивидов, в качестве политических граждан, нельзя, как это делает Гегель, устранить, лишь объявив ее странной. Маркс прекрасно показывает, что понятие общества и государства, как «моральной личности» тесно связано с историческим понятием «абстрактной личности». «В действительности абстрактная личность именно в лице моральной личности, общества, семьи и т. д. подняла свою личность до истинного существования»[52]. Эта атомистика — по словам Маркса — «проистекает необходимо из того, что общественный союз, в котором индивидуум существует, — именно гражданское общество, — что он оторван от государства, или из того, что политическое государство есть абстракция от гражданского общества». «Историческое развитие — резюмирует Маркс — привело к превращению политических сословий в социальные сословия. Подобно тому, как христиане равны на небе и не равны на земле, точно также и отдельные члены народа равны на небе их политического мира и не равны в земном существовании их социальной сферы. Собственный процесс превращения политических сословий в социальные совершился в абсолютной монархии. Бюрократия представляла идею единства государства против разнообразных государств в государстве. Тем не менее, даже рядом с бюрократией, воплощавшей в себе принцип абсолютной правительственной власти, социальные различия сословий продолжали оставаться политическими различиями внутри и рядом с бюрократией абсолютной правительственной власти. Лишь французская революция завершила процесс превращения политических сословий в социальные или сделала сословные различия внутри гражданского общества исключительно социальными различиями, лишенными всякого политического значения. Этим был завершен процесс отрознивания политической жизни от гражданской жизни»[53].
Разоблачая, таким путем, некритическую, мистическую манеру Гегеля «интерпретировать миросозерцание в духе нового», — манеру, характерную и для «современных сословных конституций», Маркс одновременно показывает всю «ложность политического положения, которое занимает законодательная власть в современном (прусском — И. Р.) государстве, чьим истолкователем Гегель является»[54]. Маркс раскрывает всю тщетность попыток Гегеля примирить между собой «практические противоположности» — монархический или княжеский принцип с представительством гражданского общества. Он показывает всю искусственность и нарочитость «абсурдных опосредствований» между князем — сословиями — правительственной властью — законодательной властью. Коллизии, которые Гегель находит между конституцией и законодательной властью, между законодательной и исполнительной властями, между княжеским принципом и сословным элементом и т. д., и которые он пытается разрешить и исчерпать при помощи различных систем «опосредствований», «взаимных делегирований» и т. п. — все эти частные противоречия имеют своей основой наиболее общее и существенное противоречие — антиномию политического государства и гражданского общества. Законодательная власть только включает в себе это внутреннее противоречие: законодательная власть, как великолепно выразился здесь Маркс — «есть узаконенный бунт».
Таким образом, уже в данной работе Маркс дает глубокое социально-историческое обоснование факту существования «политического гражданства» и особой сферы государственного права. Он предваряет уже в приведенных строках всю свою концепцию раздвоения человека на гражданина и буржуа, которая получит дальнейшее развитие в его статье «К еврейскому вопросу». Последнее раздвоение является, однако, лишь проявлением реального исторического разрыва между материальным содержанием общественной жизни и его политической формой, политическим устройством. Констатировав этот исторический разрыв, Маркс последовательно должен был в дальнейшем прийти к определению государства, как «особого орудия для подавления».
В зародыше оно намечается уже сейчас Марксом, когда он раскрывает нам истинный политический смысл гегелевской «идеи» государства, стоящего над обществом. «Гегель — по словам Маркса — хочет, чтобы “всеобщее в себе и для себя” — политическое государство — не определялось гражданским обществом, а, наоборот, определяло его». Но это — средневековая точка зрения, точка зрения феодальной государственности. Идеализм в правовой теории, находящийся в таком противоречии с диалектическим методом, оказывается, не только является методологической предпосылкой политического консерватизма, но зачастую и сам имеет весьма реальные политические корни.
III
Мы видели, как развитая Марксом диалектическая теория противоречия становится у него теоретической основой при разрешении весьма важной социально-исторической и политической проблемы. Противоречие между «гражданским обществом» и государством, столь томившее мысль Гегеля, оказывается исторически неизбежным, исторически необходимым противоречием. «Отмежевывание», отрыв буржуазного общества от феодальной государственности прокламируется, как «шаг вперед», которого требуют условия исторического развития. При этом не «тощие абстракции» классической экономии, и не «догматические абстракции» утопического социализма, но сама диалектика развития буржуазного общества, выявленная гегелевской философией права, оказывается для Маркса отправным пунктом и более высоким методологическим критерием при его теоретическом анализе феодального государства.
Но Маркс не останавливается на предвидении новой, буржуазной государственности, на чисто буржуазном идеале «представительного строя». Уже в этот ранний период он пытается поставить вопрос о преодолении всякого разрыва между обществом и государством, об «упразднении» оторванного от материальной жизни государства. Философские корни марксизма и в этом пункте ведут к гегелевской диалектике и к результатам гегелевского исторического исследования. И здесь реальное методологическое значение приобретают для Маркса все основные, носящие у Гегеля чересчур абстрактный характер или недостаточно последовательно применяемые им категории диалектики: вопрос о качественном своеобразии явлений, о связи общего и особенного, содержания и формы и т. д. Преодолевая абстрактно-биологический подход Гегеля и одновременно антропологическую точку зрения Фейербаха, Маркс вводит совершенно новое понятие, понятие социального качества. Постигнуть явление в его конкретном своеобразии — как мы уже знаем — это значит «постигнуть своеобразную логику своеобразного предмета». «Воззрение, замечает Маркс, не может быть конкретным, когда предмет, к которому воззрение относится абстрактен»[55]. Mutatis mutandis, качественный подход к предмету становится возможным по тому, что сам предмет в своем развитии выявляет свои специфические, качественные особенности. На пути именно такого изучения самого процесса исторического развития Маркс приходит к понятию социального качества. По мнению Гегеля, противоречащего здесь себе, функции и сферы деятельности политического государства «лишь внешне и случайно» связаны с индивидом, с «особенной личностью». Между тем, Маркс видит и здесь глубокую внутреннюю связь: названные «сферы» связаны с индивидуумом «не как с физическим, а как с политическим существом, с индивидуумом, как гражданином государства». «К такой нелепости — восклицает Маркс — Гегель приходит потому, что он функции и сферы деятельности государства берет абстрактно, как нечто самостоятельное, и противополагает им особенную индивидуальность... Он забывает, что сущность «особенной личности» составляет не ее борода, не ее кровь, а ее социальное качество, и что государственные функции и т. д. суть не что иное, как формы бытия и формы проявления социальных качеств людей. Ясно поэтому, что, поскольку индивидуумы являются носителями государственных функций и государственной власти, они рассматриваются не со стороны их частных, а со стороны их общественных качеств»[56].
Антропологическая точка зрения Л. Фейербаха уже здесь приобретает у Маркса все черты ярко выраженного историзма. Маркс показывает, что фейербаховский «человек» — сам есть продукт исторического развития, продукт современного общества. Понятие «действительного человека» мы можем вполне правильно осветить, лишь исследуя процесс самого исторического развития. «Идти в ногу с действительным человеком, говорит Маркс, возможно только тогда, когда «человек» стал принципом государственного строя»[57]. «Действительный человек есть частный человек современного государственного строя». Средневековый феодализм, с его сословными различиями и привилегиями, не видит еще в отдельных функциях людей их «общественных функций»: он представляет собой поэтому «животный период в истории человека, человеческую зоологию». Маркс жестоко иронизирует над чисто биологическим подходом Гегеля к рассмотрению общественно-политических функций и социальных прав личности, — подходом, в котором Гегель «спускается с высоты своего политического спиритуализма до грубейшего материализма» (мы сказали бы сейчас — до механического материализма). В его системе, говорит Маркс — «природа непосредственно делает королей и пэров, как она делает глаза и носы. Эта система выдает за непосредственный продукт естественного рода то, что есть лишь продукт обладающего самосознанием рода. Если рождение, в отличие от всех других определений, дает непосредственно человеку его место, то это значит, что тело человека делает его этим определенным общественным должностным лицом. Его тело является его социальным правом». Такое «зоологическое миропонимание», свойственное феодальной точке зрения, должно, по мнению Маркса — смениться в современном обществе пониманием тех социальных связей, в которых находится человек: государственные определения «являются социальными продуктами, плодом общества, а не естественного индивидуума». Однако, и наше время, бросает вскользь Маркс, — совершает ошибку: оно представляет себе «человека» слишком абстрактно, оно «отрознивает от человека, как нечто внешнее, материальное, его предметную сущность»[58].
В данный период у Маркса, естественно, нет еще полного и отчетливого понимания экономической и классовой структуры общества; это понимание у него только намечается. Но и здесь Маркс идет гораздо дальше Гегеля. Изучая процесс разложения сословной организации в «гражданском» обществе, Маркс приходит к понятию социального сословия, отличного от сословия в политико-юридическом смысле. «Современное гражданское общество — замечает он — есть последовательно проведенный принцип индивидуализма, индивидуальное существование есть последняя цель». Новые, «социальные сословия», не связанные с определенным политическим положением, уже «не отливаются в прочные организации». Юридические сословия в новом обществе — это «подвижные непрочные круги», «которые походя образуются, образование которых является произвольным». «Деньги и образование являются тут основными критериями». В образовании юридического сословия в гражданском обществе уже не лежат, как прежде, естественные потребности и политические нужды. Сословия «не находятся ни в каком отношении к субстанциальному делу индивидуума, его действительному состоянию». Короче говоря, резюмирует Маркс, — «подобно тому, как гражданское общество отделилось от политического, точно также это же гражданское общество разделилось внутри себя на сословие и социальное положение». Эмансипация человека от сословия и новое понятие «социального положения», связанного с определенными трудовыми функциями, — вот то своеобразное, что характеризует буржуазное «гражданское» общество. «Характерно лишь, замечает Маркс, что сословие тех, кто лишен всякой собственности, и сословие непосредственного труда, конкретного труда, является в меньшей степени сословием гражданского общества, чем той почвой, на которой покоятся и движутся его круги»[59].
Крайне важно наконец, что противоречия между основными гегелевскими сословиями Маркс сводит, в конечном счете, к противоречиям в развитии частной собственности. Маркс следует гегелевскому различению между частной собственностью в собственном смысле слова, т. е. наследуемой по майоратному праву и не зависящей от юридической воли собственника, и имуществом, отчуждаемым и приобретаемым на основе «общей воли» или договора. Имущество «всеобщего сословия» и «промышленного сословия» не есть частная собственность «в собственном смысле», т. к. оно связано со всеобщим имуществом или с собственностью, как «социальной собственностью»: это имущество представляет собой «известную форму участия в общественной собственности». Между тем, землевладение «является суверенной частной собственностью, не принявшей еще форму имущества, т. е. собственности, установленной волей общества».
Но различение это, весьма характерное для не изжитой еще полностью в этот период Марксом юридической идеологии, может приобрести и реакционный, и революционный смысл. С точки зрения Гегеля, именно «неотчуждаемость» земельной собственности по майоратному праву, «изолированность ее от гражданского общества» и, стало быть, защищенность ее от «произвола» — именно эти особенности поземельной собственности обеспечивают за связанным с ней «крестьянским сословием», возведенным в степень, т. е. за дворянским землевладением, возможность сохранять свое привилегированное участие в политической власти: они дают ему особое право «опосредствовать» целостное политическое государство. Совершенно противоположную точку зрения занимает Маркс. Маркс показывает, что такая изолированность поземельной собственности от общественных отношений ведет в действительности не к «свободе воли и нравственности», какой Гегель хотел наделить свое «сословие естественной нравственности» (землевладельцев). Наоборот, она приводит к уничтожению всего нравственного, к господству земельной собственности над личностью. Поземельная собственность, говорит Маркс, «защищена против произвола собственного владельца таким образом,... что частная собственность стала субъектом воли, что воля стала простым предикатом частной собственности. Не частная собственность является теперь определенным объектом произвола, а произвол является определенным предикатом частной собственности… «Неотчуждаемость» частной собственности является заодно «отчужденностью» всеобщей свободы воли и нравственности».
Этой частной собственности, «ставшей для самой себя религией», Маркс противопоставляет, как определенный шаг вперед, собственность отчуждаемую, основанную на договорном праве. Он вскрывает «дуализм» и непоследовательность в гегелевских отделах о государственном праве и о частном праве. В отделе частного права Гегель восхваляет отчуждаемость и зависимость собственности от «общей воли», а в отделе государства видит в этом ее недостатки. В противоположность Гегелю, именно в собственности «промышленного сословия» Маркс видит гораздо более высокие нравственные достоинства; по его словам, мы слышим в ней «биение человеческого сердца». «Это есть зависимость человека от человека. Какова бы ни была сама по себе природа этой зависимости, она человечна в сравнении с рабом, воображающим себя свободным лишь на том основании, что ограничивающая его сфера есть не общество, а земля». Независимость от государства и от общества, по словам Маркса — влечет за собой «рабскую зависимость от земли»[60]. Земля оказывается, в действительности, субстанцией, а владелец майората лишь ее акциденцией. «Поземельная собственность как бы антропоморфизируется в различных поколениях». И «политическое качество владельца майората есть политическое качество его наследственного имения»[61].
Интересны, в связи с этим, общие замечания Маркса, касающиеся развития частного права. Маркс развивает — правда, еще в несколько туманной форме — ту мысль, что «иллюзорное право абстрактной личности» имеет объективные корни, что оно тесно связано с современным обществом и государством: в историческом рассмотрении права и морали он видит «бессознательную заслугу Гегеля». Для юристов, ведущих бесконечные споры о сущности права, небезынтересно будет узнать, что еще в этот ранний период сущность права Маркс усматривает в «абстрактных отношениях» частной собственности: в тех общественных связях, которые сообщают фактическому владению новое, правовое качество. «Римляне — говорит он — впервые разработали право частной собственности, абстрактное право, частное право и право абстрактной личности. Римское частное право есть частное право в его классическом завершении... Право частной собственности есть ius utendi et abuteni, право произвольного обращения с вещью. Главный интерес римлян направлен на развитие и определение тех отношений, которые являются абстрактными отношениями частной собственности. Собственное основание частной собственности, владение есть факт, необъяснимый факт, а не право. Лишь благодаря юридическим определениям, которые общество дает фактическому владению, последнее приобретает качество правового владения, частной собственности». Как мы уже видели, основой этих юридических определений являются отчуждаемость частной собственности, ее зависимость от «общей воли», от договора. Совершенно иной тип права представляет собой древнегерманский майорат. «В противоположность германскому майорату — указывает Маркс — в Риме свобода завещания является результатом частной собственности. В этой последней противоположности заключается все различие римского и германского типа развития частной собственности»[62].
Отрыв политического государства от общества, юридико-сословная организация, приобретение общественными отношениями правового качества — все это явления исторические, возникающие на определенной ступени исторического развития. Таков важнейший вывод, к которому приходит Маркс под влиянием учения и критики Гегеля. Новой исторической ступенью является не абстрактный «человек», но все возрастающая социальная связь людей, ведущая к единству всех сторон общественной жизни, к общности «воли» и «имущества». Понятие «социального» связывается Марксом с понятием «органического», целостного то есть единства всеобщего и особенного, общественной формы и общественного содержания. «Большой шаг вперед» — в этом отношении представляет, с точки зрения Маркса, гегелевское «органическое» понимание государства[63]. Однако отказываясь «идти в ногу» с действительным историческим развитием, Гегель неизбежно придает своему государству реакционный характер.
Вопрос о соотношении между общественной формой и общественным содержанием, между «всеобщим» интересом и «особенным» интересом получает поэтому у Маркса не абстрактно-философское, а конкретно-историческое освещение — на понятиях бюрократии и демократии. Уже в указанный период Маркс в достаточной мере выявляет обе особенности, совершенно необходимые при правильном диалектическом рассмотрении; он умеет дать и глубокую логическую характеристику данного явления и в то же время указать его историческое место, его связь с совершенно определенными историческими отношениями.
Гегель рассматривает бюрократию, как «всеобщее сословие», как «средоточие государственного познания и наиболее выдающейся образованности». Предпосылкой бюрократии является существование «сравнительно независимых» и «обладающих известными правами» социальных кругов. Существование их, с одной стороны, содействует образованию такого сословия «развитого ума и правового сознания», с другой же стороны, сопротивление этих социальных кругов ограничивает «произвол чиновничьего мира». Задача этих «лиц, делегированных государственной властью» по отношению к корпорациям — «поддержание всеобщего государственного интереса и закономерности». Гарантией от возможных злоупотреблений по Гегелю, является, во-первых, иерархия знаний и экзамен на умение нести правительственные функции и, во вторых, жалованье, получаемое от государства[64]. Маркс с беспощадной иронией разоблачает этот государственный «идеал» Гегеля, «всецело зараженного здесь жалкой смесью прусского чиновничьего мира, который в своей канцелярской ограниченности с надменным презрением относится к «доверию к себе» субъективного мнения народа[65]. Методологическая неправильность гегелевского построения заключается в абстрактном разграничении «всеобщего» и «особенного» интереса в их общественных проявлениях. Эмпирически данный отрыв государственной формы от общественного содержания в прусской бюрократии провозглашается им всеобщим идеалом. «Государственный формализм», воплощенный в бюрократии — указывает Маркс — есть «государство, как формализм», и в качестве такого формализма описал его Гегель. Так как этот «государственный формализм» конституируется, как действительная сила и становится своим собственным материальным содержанием, то ясно само собой, что бюрократия есть сеть практических иллюзий или, как в духе Фейербаха выражается Маркс, «бюрократы суть иезуиты и теологи государства, бюрократия есть la republique prêtre».
Маркс дает меткую характеристику практических иллюзий бюрократии, не лишенную известного интереса и для наших дней, поскольку нам приходится вести борьбу с бюрократическими извращениями советского госаппарата. Естественно, что, относясь формально к своим задачам, прусская бюрократия настроена отрицательно к передовому общественному движению и ко всем реальным задачам государства. «Действительная цель государства — говорит Маркс — представляется», таким образом, бюрократии противогосударственной целью. Бюрократия считает себя конечной целью государства. Т. к. бюрократия делает свои «формальные» задачи своим содержанием, то она везде вступает в конфликт с «реальными» задачами. Она вынуждена поэтому выдавать формальное за содержание, а содержание за формальный момент. Государственные задачи превращаются в канцелярские задачи или канцелярские задачи в государственные». Так как бюрократия построена на иерархии знания, то «верхи полагаются на низшие круги во всем, что касается знания частностей; низшие круги доверяются верхам во всем, что касается понимания всеобщего и, таким образом, они взаимно вводят друг друга в заблуждение». «Реальная сущность вещи рассматривается бюрократией сквозь призму ее бюрократической сущности.... Всеобщий дух бюрократии есть тайна, таинство», соблюдение которой обеспечивается иерархической организацией. «Авторитет есть поэтому принцип ее значения и обоготворение авторитета есть умонастроение». Маркс показывает весь механический характер такого формалистического «спиритуализма», который превращается в абстрактный «материализм» слепого подчинения; бюрократическая система — замечает Маркс — «превращается здесь в механизм строго предписанных формальных действий, твердо установленных принципов, воззрений, традиций». «Что касается отдельного бюрократа, то государственная цель превращается в его личную цель, в погоню за чинами, в делание карьеры». Для него, по образному выражению Маркса, заставляющему вспомнить Щедрина и Кузьму Пруткова, «государство существует лишь в виде различных определенных бюрократов, связанных между собою посредством субординации и слепого подчинения». Его «экзамен» — это только «бюрократическое крещение знания»[66].
Однако, Маркс отнюдь не склонен видеть в охарактеризованной им здесь бюрократической системе нечто «абсолютное», нечто одинаковое при самых различных общественных укладах и имеющее всюду одни и те же социально-исторические корни. Одно дело, — выразил позже ту же мысль Ленин, — бюрократизм буржуазного государства, противопоставляющего государственную машину революционному рабочему движению, и совсем иное дело бюрократизм советский, объясняющийся экономической распыленностью и недостаточной культурностью народных масс. Гегелевская бюрократия — совершенно определенная, историческая система бюрократии, «одна из эмпирических сторон прусского или вообще современного государства». Это — система бюрократии, направленная против «особенных» интересов «гражданского общества», обусловленная неизжитой еще феодальной сущностью гегелевского «конституционного государства». Маркс вообще очень невысокого мнения о современных конституционных государствах, особенно в гегелевском истолковании. Гегель, по его словам, «субъективирует» государство в суверенитете монарха, вместо того чтобы «сделать действительных субъектов в качестве базиса государства». «Все атрибуты конституционного монарха в современной Европе Гегель превращает в абсолютные самоопределения воли». Гегелевская конституция внутренне противоречива: она «и есть с точки зрения закона (в иллюзии)» и в то же время «в действительности она только становится», благодаря постоянному воздействию «сословного элемента». Прусская бюрократия действительно является «конституционной предпосылкой», но «Гегель не доказал правильности этих предпосылок тем, что он анализирует их основную идею». «Вопрос именно в том и состоит: не является ли иллюзией суверенитет, якобы абсолютно пребывающий в монархе? Суверенитет монарха или народа, that is the question, вот в чем вопрос!..»[67].
И здесь крайне интересна та параллель, которую Маркс проводит между монархией и демократией. Под демократией Маркс в этот период понимает «государственное устройство народа» вообще. Маркс развивает эту параллель в диалектических категориях «целого» и «части», «рода» и «вида», «формы» и «содержания». «Демократия — говорит он — есть истина монархии, монархия же не есть истина демократии». Монархия не может быть последовательным государственным (т. е. общественным) устройством. В демократии каждый «из моментов целого есть действительный момент этого демоса в целом. В монархии же часть определяет характер целого… Демократия есть государственное устройство, как родовое понятие. Монархия же только один из видов, и притом не из плохих видов государственного устройства. Демократия есть «содержание и форма». Монархия же по идее должна быть только формой, но она фальсифицирует содержание». В демократии, по словам Маркса, «само государственное устройство выступает, как одно из определений, и именно как самоопределение народа»… В ней государственное устройство не только «в себе», но и «в действительности» сводится к действительному человеку, к действительному народу…»[68]. «Демократия есть разрешенная загадка всех форм государственного устройства». «Специфическим отличием демократии является то, что здесь государственное устройство вообще представляет собой только момент бытия народа, что политический строй сам по себе не образует здесь государства»… «В демократии формальный принцип является одновременно и материальным принципом. Лишь поэтому она есть подлинное единство всеобщего и особенного».
Уже из одного этого сопоставления ясно, что Маркс отнюдь не прокламирует здесь буржуазную государственность. Его демократия — отнюдь не буржуазная, не формальная демократия. «Политическая республика, по словам Маркса, есть демократия в пределах абстрактной формы государства. Абстрактной государственной формой демократии является поэтому республика». Но Маркс прекрасно видит, что и «в республике, как особой только форме государственного строя», сохраняется все различие между «политическим человеком» и частным человеком. «В Северной Америке — замечает он — собственность и т. д., одним словом, все содержание права и государства» немногим отличается от Пруссии. «Там, следовательно, республика является одной только государственной формой, как здесь монархия». Маркс же имеет в виду такую республику, которая «перестает быть только политической формой»[69]. Демократический элемент, по его словам, не должен входить «в государственный организм, как особый элемент и как формализм»: «в этом случае демократический элемент вступает в государственный организм лишь как формальный принцип»[70].
Выступая в защиту представительного строя, Маркс одновременно прекрасно выясняет весь исторический, ограниченный характер проблемы «всеобщей воли» и буржуазной избирательной реформы.
Гегель критикует, как «неразумную» форму, «непосредственное участие всех в обсуждении и решении общих государственных дел». Он исходит здесь из исторических, эмпирических условий современного «государственного формализма». Действительная альтернатива — по словам Маркса — здесь такая: «отдельные лица это делают как все или отдельные лица это делают как немногие, как не все». Но самый вопрос этот, «все ли в отдельности должны принимать участие в обсуждении и решении всеобщих дел государства» — этот вопрос может возникнуть лишь на почве отрыва политического государства от гражданского общества[71]. Маркс разрешает его диалектически: «в действительно-разумном государстве — говорит он — можно было бы ответить: «не все в отдельности должны участвовать в обсуждении и решении общих государственных дел, ибо отдельные лица — как «все», т. е. внутри общества, и как члены общества — уже участвуют в обсуждении и решении общих государственных дел. Не все в отдельности, а отдельные лица, как «все»[72].
В теоретическом прогнозе Маркса фигурирует «действительно разумное государство», «действительное политическое общество», которое тем самым уже упраздняет себя как государство, как общество политическое. «Представительный» строй с его «неограниченным избирательным правом» Маркс рассматривает не как конечную цель, а как известный и исторически необходимый «шаг вперед». Но буржуазная революция, будучи последовательно доведена до конца, предполагает уже выход за пределы «гражданского» общества и государственности вообще. «В неограниченном активном и пассивном избирательном праве — вдохновенно говорит Маркс — гражданское общество впервые действительно поднялось до абстракции от самого себя до политического бытия, как своего истинного всеобщего существенного бытия. Но доведение до конца этой абстракции одновременно является упразднением этой абстракции. Признав свое политическое бытие своим истинным бытием, гражданское общество тем самым признало свое гражданское бытие в его отличие от своего политического бытия несущественным. И с отпадением одного из оторванных друг от друга моментов отпадает и противоположный момент. Избирательная реформа, есть следовательно, — выраженное в рамках абстрактного политического государства, — требование упразднения последнего, равно как и упразднение гражданского общества»[73].
В этих словах Маркса мы имеем уже тот высший предел, на котором правильно понятая и последовательно-материалистически проведенная гегелевская диалектика начинает перерастать в революционный марксизм, в научный коммунизм. «Критический пересмотр гегелевской философии права — писал впоследствии Маркс, привел меня к заключению, что «анатомию» буржуазного общества нужно искать в политической экономии»[74]. Но последовавшее длительное экономическое исследование дало Марксу возможность лишь всесторонне развить и обосновать то исходное воззрение, зародыши которого зрели уже в его ранней диалектической методологий. В известном смысле, они имманентно присущи диалектическому пониманию общества и государства. От рукописи «Критики философии права», через ряд последующих этапов — путь к «Коммунистическому Манифесту» и к «Критике готской программы».
Примечания
- 1. Архив Маркса и Энгельса, книга третья. Гиз. 1927.
- 2. Архив М. и Эн., кн. 3, с. 128.
- 3. G. W. Fr. Hegel Grundlinien der Philosophie des Rechts. Sämtl. Werke, Leipzig, 1921, Bd. VI, SS. 9, 14, 15, 17.
- 4. Hegel, ibid, SS. 9, 11, 13, 14, 15, 17.
- 5. Маркс. Критика философии права Гегеля. Архив М. и Эн. кн. 3, с. 213.
- 6. В этом отношении гораздо беднее отрывок, озаглавленный «Как нам быть с гегелевской диалектикой», относящийся к 1884 г. и помещенный в той же книге «Архива». Правда, попутно и здесь затрагиваются некоторые вопросы теории диалектики, напр. вопрос о снимании, как «предметном движении, вбирающим в себя обратно отрешение» (с. 270). Однако, общая задача, которую преследует Маркс в указанный период — критика им в первую очередь, идеалистической «тайны» гегелевской философии — помешала ему воздать должное всему богатству гегелевской диалектики.
- 7. Архив М. и Эн., кн. 3, ст. 185, 202.
- 8. Ibid. с. 202.
- 9. Ibid. с. 211.
- 10. Ibid. с. 212.
- 11. Ibid. с. 213.
- 12. Ibid. с. 214.
- 13. Ibid. с. 214.
- 14. Ibid. с. 214.
- 15. Ленин. К вопросу о диалектике.
- 16. Архив М. и Эн., кн. 3, с. 214.
- 17. Ibid. с. 186.
- 18. Архив М. и Эн., кн. 3, с. 191.
- 19. Архив М. и Эн., кн. 3, с. 147.
- 20. Там же, с. 159.
- 21. Там же, с. 164.
- 22. Там же, с. 172, 174.
- 23. Там же, с. 190.
- 24. Там же, с. 216.
- 25. Там же, с. 150, см. также 153, 168, 172, 179 и др.
- 26. Там же, с. 243.
- 27. Архив М. и Эн., кн. 3, «Как нам быть с гегелевской диалектикой», с. 272-273.
- 28. А. Деборин: Маркс и Гегель. Сб. «Философия и марксизм», 1926. Впервые напечат. в журн. «Под знаменем марксизма» за 1923 г.
- 29. Hegel, «Grundlinien der Philosophie des Rechts», S. 10, 15.
- 30. Ibid. с. 305, 309.
- 31. Ibid. с. 15, 16.
- 32. Ibid. с. 21-22.
- 33. См. дополнительно: И. Разумовский. «Проблемы марксистской теории права». Корни марксизма и философия права, Изд. Ком. Ак. 1924 г.
- 34. Hegel, ibid. №№ 34-141. Маркс: Введение к критике полит. экономии.
- 35. Hegel, ibid. S. 155. Самый термин «гражданское общество», как правильно указывает К. Форлендер, введен еще Д. Фергюсоном, шотландским мыслителем XVIII в. См. Karl Vorländer: «Von Machiavelli bis Lenin», Leipzig, 1926, S. 199.
- 36. Hegel, ibid, S. 155, 157.
- 37. Ibid, S. 159, 165.
- 38. Hegel, ibid, S. 196. 197.
- 39. Hegel, ibid, S. 352.
- 40. Hegel, ibid, S. 197.
- 41. Hegel, ibid, S. 350.
- 42. Что Маркс отчетливо сознавал все значение этих теоретических результатов гегелевской философии права, видно из других фрагментов, напечатанных в той же книжке «Архива». Величие Гегеля, по словам Маркса, заключается в том, что он усматривает сущность труда и понимает предметного человека, истинного действительного человека, как результат его собственного труда… Гегель стоит на точке зрения современной политической экономии. Он рассматривает труд, как сущность, как подтверждающую себя сущность человека»… (Архив Маркса и Энгельса, кн. 3, с. 264).
- 43. Hegel, ibid, S. 347.
- 44. Крайне характерно, что в целом ряде мест Гегель апеллирует к Монтескьё, как известно, также занимавшему весьма половинчатую позицию по отношению к буржуазной революции (см. Hegel, S. 21, 26, 203, 223).
- 45. Franz Rosenzweig: Hegel und der Staat, Bd. II, 1920, S. 234. По мнению националиста Розенцвейга «Гегелю именно этот “либеральный” элемент помешал присоединиться к национальному мышлению»: здесь разумеются националист фон Галлер и последующие правогегельянцы типа Ранке, Трейчке и т. д.
- 46. Маркс: Критика философии права Гегеля. Архив М. и Эн., кн. 3, с. 205, 244.
- 47. Маркс, ibid, с. 144.
- 48. Маркс, ibid, с. 145, 146, 147, 148.
- 49. Маркс, ibid, с. 166.
- 50. Ibid, с. 194.
- 51. Маркс, ibid, с. 174, 176, 194.
- 52. Ibid, с. 177.
- 53. Маркс, ibid, с. 199-206.
- 54. Ibid, с. 210.
- 55. Маркс, ibid, с. 205.
- 56. Маркс, ibid, с. 157.
- 57. Ibid, с. 155.
- 58. Маркс, ibid, с. 208, 228.
- 59. Маркс, ibid, с. 206-207.
- 60. Маркс, ibid, с. 224-225, 227.
- 61. Ibid, с. 228, 229.
- 62. Маркс, ibid, с. 231-243.
- 63. Ibid, с. 149.
- 64. Hegel, цит. соч., S. 238-243.
- 65. Маркс. Критика философии права Гегеля. с. 234.
- 66. Маркс, ibid, с. 178-179, 182.
- 67. Маркс. Критика философии права Гегеля. с. 159, 160, 170, 186. Гегель видит во враждебности правительства и сословий «печальное заблуждение». Маркс иронически комментирует: «Это, к сожалению, «печальная истина». Гегель авторитетно замечает: «Правительство не есть партия, которой противостоит другая партия»… «Напротив» — бросает Маркс… (стр. 195).
- 68. Ibid, с. 163, 164.
- 69. Маркс, ibid, с. 164, 165.
- 70. Ibid, с. 237.
- 71. Ibid, с. 237, 238.
- 72. Ibid, с. 237.
- 73. Ibid, с. 241.
- 74. Предисл. к «Критик. полит. экономии».
И. Разумовский. Маркс и гегелевская философия права (О вновь опубликованной работе Маркса). Революция права. 1928. № 1, стр. 59-84 (главы I-II); 1928. № 2, стр. 57-66 (глава III).
Вычитка и верстка — П. Андреев